Бартеновка глазами… Христофора Колумба
- Бартеновка от заимки до деревни
Работая в архивах в поисках документов, касающихся жизни и деятельности художника В. Д. Вучичевича-Сибирского, я постоянно встречала сведения, касающиеся истории родного района, Бартеновки, рядом с которой жил пейзажист.
Мне показалось, что эта информация будет интересна моим землякам.
Сразу приоткрою завесу тайны, заключённой в названии статьи. Конечно, речь пойдёт не о путешественнике, который «открыл Америку».
Но обо всём по порядку.
Происхождение названия нынешнего дачного посёлка Бартеновки имеет две версии.
Первую рассказывает житель Крапивинского округа Н. А. Кудряшов:
«По рассказу старых жителей деревни Бартеновки (оставшихся детей и внуков от тех стариков, которых уже давно нет в помине), что какой-то русский человек занимался в то время пчеловодством. А фамилия у него была Бартенов. Именно в том логу, где протекает таёжная речка, находилась его пасека. Жил он сначала в Крапивино. Деревня Крапивино была в то время маленькая. Кто приезжал осваивать новые земли, в Крапивино была первая остановка.
Сам Бартенов был общительным с людьми, разговорчивым. Он интересовался встречными, приезжающими товарищами, и предлагал поселиться в этом логу, где находится его пасека.
В 1936-году деревню Кедровку переименовали (в честь того пасечника) в «Бартеновку»…»
Мне эта версия сразу показалась сомнительной. Чем должен был отметиться в жизни односельчан человек, обыкновенный пасечник, чтобы в его честь назвали деревню?
К тому же на карте Крапивинской волости 1919 года уже стоит надпись «п. Бартеневский (Кедровка)».
В воспоминаниях других жителей тех лет говорится о том, что Бартенов был чиновником или купцом, который был поставлен властью Щегловского уезда. Его задачей было контролировать земельные вопросы, связанные с арендой Кабинетских земель Его Императорского Величества. Крестьяне-арендаторы были обязаны своевременно выплачивать аренду. Они не имели права захватывать «безнадзорные» пастбища под покос или вспашку.
Крапивинский учитель-краевед П. Н. Сумбаев в своих воспоминаниях пишет: «Приехавшие из Уфимской, Казанской, Симбирской и Самарской губерний чуваши стали называть свой посёлок именем полюбившейся им реки — Кедровкой. Но земля, на которой начали строиться поселенцы, принадлежала Кабинету Его Императорского Величества. Жители ежегодно арендовали ту землю и платили за неё большие деньги. Только после долгих и мучительных хлопот, подкреплённых щедрыми подношениями, царский чиновник Бартенов нарезал переселенцам в 1912 году Кабинетную землю. А для увековечения памяти о себе переименовал посёлок Кедровка в Бартеновский. Сколько ни старались, куда только не ходили чуваши с ходатайством, чтобы их посёлок назывался по-прежнему Кедровкой, а не носил фамилию царского чиновника, но написанное чернилами по белому осталось нестёртым…»
Здесь же: «…Огромный новый дом художника с множеством больших окон, ещё не обведённых наличниками, размером 10 на 20 метров, возвышался на левом берегу живописной реки Томи.
Перед окнами этого дома открывался красивый пейзаж Долгого острова. Летом сюда на сенокос съезжались сотни людей. Здешние сенокосные угодья принадлежали Кабинету Его Императорского Величества.
Жители окрестных таёжных посёлков за неимением сенокосного угодья у себя, вытряхивая из карманов последние деньги, арендовали эту землю и жили здесь кто неделю, кто и дольше».
То, что часть земель Томской губернии Щегловского уезда Мунгатской волости принадлежала царской семье Романовых — это неоспоримый факт, подтверждённый архивными документами. Среди них и воспоминания томского скульптора А. И.Соловкина.
После своей успешной выставки в Санкт-Петербурге в 1910 году художник В. Д. Вучичевич делился своей радостью с томичем. В архиве ТОКМ хранится письмо, которое скульптор писал крапивинскому учителю-краеведу П. Н. Сумбаеву: «А хутор этот, дачу, подарила ему княгиня Мария Павловна. Они с мужем, князем Владимиром Александровичем, были большие любители и ценители картин. За распространение искусства путём передвижных выставок и был подарен Вучичевичу этот участок земли, хутор, где он с семьей трагически погиб». (Для справки: Великая княгиня М. П. Романова — это родная тётушка последнего российского царя Николая II).
Однако царским подарком художник, приехавший в 1918 году в Крапивинскую волость, не смог воспользоваться. После Февральской революции 1917 кабинетские земли были конфискованы, а Кабинет передан в подчинение Министерства финансов.
Сначала заимка, а потом деревня Кедровка располагалась по обеим сторонам одноименной речки, через которую было построено три деревянных моста. «Весной в большую воду, настил моста подымался. Иногда, даже опасно было ходить. Постепенно мост починили, два из них в большую воду унесло, остался один, который был построен посреди деревни».
«Быстро заполнился лог Кедровки новыми переселенцами. То из Чебоксар, то из Казани, то из Канаша — одним словом со всей Чувашии и других мест». Вскоре сюда подтянулись украинцы, русские с Европейской части Российской империи.
Интересны статистические данные о жителях Бартеновки и их имуществе.
Перепись населения деревни 1919 года показала, что в Бартеновке жили крестьяне мужского пола 46,7%, женского пола — 53,3%. Из них только 46% «годные к работе». Бартеновцы имели лошадей 38% от всего поголовья скота, коров — 28,8%, мелкого скота — 33,2%.
Об истории Бартеновки во время Гражданской войны, проходившей в Крапивинской волости с 1918 по 1919 годы, рассказывает бывший житель Крапивино кандидат исторических наук, зав. кафедры Омского университета им. Ф. М. Достоевского С. С. Тихонов, записавший воспоминания местных крестьян: «Жители Бартеновки имели между собой родственные, дружеские и хозяйственные связи.
Во время Гражданской войны активных действий в этих местах не велось. Партизаны проводили небольшие военные операции, а после сразу уходили в тайгу. Белые жили в деревнях, отбивали нападения партизан, иногда преследовали их. Красные занимали таёжный гористый правый берег Томи с мелкими деревнями и пасеками, в которых отдыхали после непродолжительных боев. Белые жили по деревням у крестьян на левом берегу. Денег за постой не платили, питались тем же, что и местные. Порой командиры полуроты заказывали себе шаньги, пироги, плюшки, которые хозяйки вынуждены были стряпать.
…Крестьяне передвигались по всей территории Крапивинской волости свободно, могли передавать в Крапивино сообщения о пребывании партизан в Салтымаково.
Крестьянин Сухоруков с товарищем везли тяжелораненого по Томи на лодке больше двух суток из Калашниково в Щегловск. Крестьянин Евдоким Тихонов из Крапивино перегнал в партизанский госпиталь на реке Аттила корову и снабжал их мукой. На вопрос «Почему ты так сделал?» ответил: «Дак они в тайге сидят, исть хочут. Говорят, веди, Евдюша, корову, а то убьём тебя». Не посещать то место Е. Тихонов не мог, т. к. у него там была пасека…
Крестьяне (в отличие от партизан) не страдали от голода и по всей территории ходили свободно».
Между отрядами из 20-40 человек существовала связь. Однажды, договорившись, они сумели повести наступление на Крапивино. Белые, не вступая в бой, вынуждены были уйти по правобережью Томи тайгой на Центральный рудник (около двух дней конного хода), прихватив ценные вещи у местных жителей. Их никто не преследовал. После ухода белых красные партизаны реквизировали у наиболее зажиточных крестьян имущество и, собравшись у церкви, поделили его между собой.
Изучая документы Кемеровского областного архива, я обнаружила ничем не примечательный корешок билета на знаменитую выставку картин В. Д. Вучичевича, проходившей в Санкт-Петербурге в 1910 году. Этот билет художник, очевидно, случайно использовал в качестве закладки в книге, которая после смерти пейзажиста и его семьи также случайно попала в чьи-то руки. Но самое интересное было на обратной стороне клочка бумаги. Там имелась следующая запись: «Тов. Коваленко, в Банново делать нечего, а поэтому я присоединяюсь к отряду, потому что людей в Банново около 30 человек. Посты стоят, от… (далее следует непонятная фамилия) сведений нет. В 8 час. переправлюсь в Змеинку с тремя человеками». И — подпись.
Кто писал записку, к кому она обращена? На эти вопросы теперь вряд ли кто-нибудь ответит.
Любопытные сведения о решающей схватке белых с красными партизанами на Томи близ Крапивино и Бартеновки опубликовал П. П. Лизогуб, заместитель директора Новокузнецкого краеведческого музея:
«В мае 1918 года восстание белочехов спровоцировало контрреволюционную волну. Практически вся территория Томской губернии быстро очистилась от совдепов. Создалась серьезная угроза существованию советской власти от Щегловска до Кузнецка. В Щегловске на рейде стояли три ранее реквизированных парохода, на которых совдеповцы в ночь на 4-е июня и отправились в Кузнецк на соединение с местными сторонниками советской власти.
Это были буксиры «Дедушка», «Курган» и грузопассажирский «Красногвардеец». Через девяносто верст в Крапивино была сделана первая остановка для пополнения запаса дров. И через несколько дней пароходный караван прибыл в Кузнецк, на пристани которого стояло ещё пара паровых колесных судов. В итоге на Кузнецком рейде скопилось пять пароходов, что было небывалым явлением в истории города.
Положение советской власти в Кузнецке оказалось ничуть не легче чем в Щегловске. После долгих споров о дальнейшем пути отступления было принято решение идти всем вместе вниз по Томи. 14 июня караван из пяти судов растянувшись на десяток верст, двинулся на север. Но никто из нескольких сотен большевиков не предполагал, что ещё 9-го июня из г.Томска вышел пароход «Пролетарий» с полуротой белогвардейцев и двумя пулеметами под командованием штабс-капитана И. Альдмановича. Задача перед ним была поставлена простая: ликвидация советской власти в верхнем течении Томи.
Капитан Альдманович со своими солдатами двигался осторожно, постоянно высылая вперед береговую разведку и только в районе села Крапивино произошло первое столкновение. Для большевиков появление противника было полной неожиданностью. После скоротечного встречного боя команда головного парохода «Красногвардеец», видя свое безнадежное положение, сдалась в плен.
Далее, устроив засаду в 23-х верстах выше по течению, в протоке под островом Красный, что у устья реки Тайдон, был расстрелян в упор второй пароход совдеповцев «Моряк». В живых никого не осталось, а пароход, изрешеченный пулями с двух сторон, был отбуксирован в село Крапивино.
Захватив инициативу в свои руки, И. Альдманович отправил по берегу часть своего отряда, который в узких островных протоках в районе села Ажендарово, окончательно захлопнул приготовленную им ловушку. Оставшиеся пароходы красных один за другим сдались в плен. И только «Дедушка» был геройски посажен на мель своим капитаном. Белые застрелили героя-капитана и, оставив крепко сидящий на островной отмели пароход с плененными совдеповцами, двинулись вниз по реке к селу Крапивино.
После отправки заключенных в Кузнецкую тюрьму (крепость) с борта парохода вдоль реки в знак победы над большевизмом была дана длинная пулеметная очередью.
Так усилиями небольшого отряда белогвардейцев численностью в полусотню человек под командованием кадрового офицера за пару недель была ликвидирована первая советская власть в Кузбассе».
II. История жизни чувашской семьи
Настало время рассказать о судьбе знаменитого земляка, имя которого стало стираться в памяти старожил Крапивино, имя неизвестное молодым жителям нашего округа.
Христофор Никитович Иванов родился в Чувашии в 1885 году.
Перед Первой мировой войной поехал на Волгу устраиваться в речное пароходство: в деревне случился очередной неурожай, и многочисленная семья голодала. Писарь-речник, услышав необычное для волжан имя, рассмеялся: «Какой «Иванов» в пароходстве?! Будешь ты Колумбом!» Так и записали: «Христофор Никитович Колумб». Так не то прозвище, не то кличка прилепилась к «моряку», обжилась и стала родной для его детей и внуков.
Вернувшись с Волги, как рассказывал Н. А. Кудряшов,
«Христофор Никитич бродил по Сибири до тех пор, пока не подыскал походящее место. Христофор Никитич не забыл свой чувашский обычай, прежде чем спать ложиться, надо богу помолиться, чтобы дал бог дитя, хоть некрасивого, но умного. В Сибири посыпались у них дети. Бог, наверное, услышал его молитву и довёл счёт до 11 детей. Ни все, конечно, выросли, рождённые после Владимира и Христофора Христофоровича в возрасте двух-трёх лет умерли».
Из родной Чувашии Колумбы перебрались сначала в Междугорку, а потом в Бартеновку. Там Христофор Никитович встретил известие о начале Первой мировой войны.
Через год страшных изнурительных боев, во время которых противник применял газовые атаки, наш земляк был ранен, лечился в госпитале в Люблино под Москвой. Был комиссован, вернулся в Бартеновку.
С началом Гражданской войны в волости стало неспокойно. От рук бандита, бывшего кулака Сашки Сажина погиб ставший его другом художник Вучичевич с семьёй.
Советскую власть Колумбы встретили как освобождение от беспорядков, царивших в то время в волости.
Христофор Никитович, к тому времени отец большого семейства, устроился работать десятником в артель на лесосплаве на Томи. Тогда горная река была многоводной, холодной.
П. Н. Сумбаев пишет:
«Здесь и озёра не имели покоя. К их пологим берегам ночью осторожно прибегали на водопой дикие козы да быстроногие лоси.
Утром и вечером у берегов озёр под прикрытием зелёных кустарников охотники настороженно подстерегали водоплавающую дичь.
Рыбаки терпеливо следили за игривыми поплавками. На ночь они ставили сети, вентеря и каждый день ели наваристую уху, лакомились свежей рыбой.
Здешние озёра славились тогда обилием щуки, окуня, карася, линя и другой рыбы. И в Томи рыба кишела. Бывало, мальчишки тут только закинут удочки, поплавки тут же заиграют…»
Колумбы недорого купили дом у чуваша Гаврилы Кипарисова после его переезда в Крапивино.
С закрытием артели Колумб ушёл работать на маслозавод в Крапивино сначала мастером, а потом управляющим.
Трудился начальником почты. Был членом сельсовета. Ездил на конференции крестьянских активистов в Щегловск.
К 1938 году в Бартеновском колхозе один за другим поменялось несколько председателей. Власти требовали всё больше отдавать урожая зерна. Не удобренная таёжная земля истощилась и уже не плодоносила как раньше. Колхозники голодали. Правление решило использовать на еду семенное зерно.
Кто-то донёс на членов сельсовета. Последовали крупные разборки. Председатель взял из дома старенькое ружьишко, пошёл в тайгу и… застрелился. А четырёх активистов колхоза арестовали и отправили кого — на Север, кого — в Нарым. Колумбу «повезло»: ему пришлось строить КВЖД, Китайско-Восточную железную дорогу.
Христофор Никитович рассказывал, что его бригада состояла из крепких крестьянских мужиков, привыкших к тяжёлому, порой непосильному труду. Все работали дружно, слаженно. Платили хлебом, а так как бригада постоянно перевыполняла дневную норму, в еде заключенные не нуждались. Одно плохо: «Иногда кусок хлеба в рот не лез. Вспоминал голодных, оставшихся без отца ребятишек. Из одиннадцати на то время осталось семеро, трое парнишек и четыре девчонки. «Поди с голоду пухнут, а я… И послать нельзя. Связи с семьей не было никакой!»
В родную Бартеновку глава семьи вернулся только в сорок втором году.
Это было неспокойное военное время. Почти полдеревни мужчин ушли на фронт, остались бабы да ребятишки. На их плечи легли и пахота таёжной тяжёлой суглинистой почвы, и заготовка пихтового масла.
Н. А Кудряшов вспоминал:
«Весной, как только снег растает, выходили на колхозное картофельное поле, ходили по чёрной грязной земле, искали оставшуюся незамеченной прошлогоднюю картошку. Хлебного пайка не стало. Война прижала до основания. Угрюмо крутили женщины Бартеновки веялки. Выращенный урожай, выбирая семенное зерно, сдавали государству. Всё, что могли. Себе оставались отходы. Рвали колбу, крапиву, варили и ели. От такой пищи дети болели рахитом.
А матери и слёз не мерили, и горе не копили. Много было его у всех в ту войну. В бессонных ночах, скрывая слёзы от малолеток, молили они судьбу: «Верни сына, мужа, брата, отца!». А поутру вставали наши матушки с новой силой в душе: слезами не напьёшься, не умоешься. А поэтому женщины выполняли мужскую работу».
В памяти односельчан Христофор Колумб остался как честный, работящий земляк. По возвращению бывшего заключенного поставили директором магазина. Так велико было доверие земляков. Выделили лошадь и револьвер, а иначе нельзя. Время неспокойное, в тайге орудовала банда местных дезертиров, братьев Гордеевых. На Карсагале, в логу, как ехать в Поперечку они убили парнишку и заложили хворостом.
И снова отрывок из воспоминаний Н. А. Кудряшова:
«Они преследовали, караулили, выбирали удобный момент для убийства председателя колхоза «Новой Кедровки» Игната Николаевича Волкова. Волков был у пахарей, потом пошёл по направлению к колхозной пасеке. В пути следования, в логу его встретили палачи. Завернув ему рубаху на голову и за горло, не смог старичок противостоять один против двух пар сильных мужских рук. Просил он их Христом богом, чтобы они его не убивали. «Отпустите, никому ничего не скажу, только отпустите». Но вот последний вздох и последнее дыхание. Лежал он в логу головой к воде, но уже не просил ни помощи, ни пощады. Ушёл навсегда из жизни в мае месяце 1942 года, не посеяв ни одного зёрнышка. Как будто отдавал последний долг чистой земной воде. Легко ли было ему умирать от рук таких палачей? Наверное, нет. Ведь он понимал, что идёт война, он последний кусок от своих колхозников отдавал государству во имя Победы. Его искали, нашли только через двое суток. Нашли и палачей, но не сразу, только зимой в декабре месяце. Жили они в землянке за Бартеновкой, в тайге. В ихней землянке много кой-чего потом нашли. Только одной чистой пшеницы 12 возов по 6 мешков в каждом возу, вывезли».
Про лагерную жизнь Христофор Никитович старался не вспоминать. Земляки к его истории относились с пониманием. Знали, что человек пострадал за них, безвинно.
Отголоски безжалостной войны доносились до деревни. Пришла беда и в многодетную семью Колумбов. Под Сталинградом без вести пропал сынок Миша. Его забрали ещё до возвращения отца с лагерей сначала на Дальний Восток, потом пришёл солдатский треугольник из-под Москвы.
Жена Христофора Никитовича, Мария Федоровна, пекла хлеб в Крапивино. Остальные ребята учились в школе, работали в колхозе. Выполняли всю тяжёлую работу вместе со своими сверстниками вместо ушедших на фронт отцов и старших братьев.
После окончания войны с фронта в родную Бартеновку стали возвращаться кормильцы. Многие вернулись ранеными. Чуть живой, обмороженный в лагере с Заполярья вернулся «друг по несчастью», попавший в тюрьму, как и Колумб, по доносу. Да почти сразу и помер: «Только что на домашней постели!»
У Марии и Христофора все дети получили специальности, выросли трудолюбивыми.
Сын Владимир Христофорович ушёл добровольцем на войну с Японией. Вернулся. Уехал работать бригадиром на КМК.
Дочь Мария, учительница, преподавала вместе с мужем Поликарпом Гурьевичем в Черноголовке, Бартеновке, Крапивино. Потом отправилась вслед за братом в Новокузнецк.
Ольга работала диспетчером на железной дороге в Ленинске-Кузнецком.
Младший Христофор Христофорович шоферил, как сестра Елизавета, строил Зеленогорскую плотину.
В конце пятидесятых после публикации книги Ф. А. Логинова «Заимка Вучичевича» директор школы, он же учитель истории, Н. Д. Конев с ребятами из школьного кружка краеведов наведывался к постаревшему, но всё такому же бодрому жизнелюбу Христофору Никитовичу Колумбу. Пришлось вновь вспомнить то безвозвратно ушедшее прошлое: как перевозили тяжелораненого художника, как прятали от белогвардейцев ушедших в тайгу большевиков и комсомольцев, как вступали в коммуну.
Христофор Никитович рассказывал ученикам Крапивинской школы, как познакомился с приезжим художником В. Д. Вучичевичем сразу после его появления в Крапивино. Когда при знакомстве Христофор Никитович назвал свою фамилию, Владимир Дмитриевич очень удивился: «Не шутишь?».
Колумб помогал ему по хозяйству. Дружил с его семьёй. Художник был прост в обращении. Часто приглашал к себе в гости, рассказывал крестьянину о космосе, делился своими планами по обучению крестьянских ребятишек рисованию и грамоте. Жена художника лечила местных крестьян, потому что ближайшая больница была только в уездном центре, в Щегловске. Жизнь пейзажиста оборвалась, как и жизнь трёх его дочерей и жены холодной осенью 1919 года.
Христофор Никитович Колумб умер в Крапивино в 1966 году. На поселковом кладбище и сейчас стоит его скромная могила, которую посещают внуки и правнуки знаменитого деда, вошедшего в историю Крапивинского округа благодаря необычной фамилии, богатой жизненной судьбе, тесно связанной с родным краем, и знакомству с художником В. Д. Вучичевичем-Сибирским.
Наш край известен не только благодаря первому в Кузбассе профессиональному художнику, единственному в Российской империи художнику-космисту.
Крапивинцы хорошо знают имена художников, живших в нашем районе: В. Д. Вучичевич-Сибирский, Г. И. Елин, Л. П. Райский.
Однако в Бартеновке родился и жил ещё один замечательный талантливый человек, автор пейзажей, портретов и жанровой живописи — Пётр Гаврилович Кипарисов.
Его семья, как и семья Колумба, которым позднее Гаврила Кипарисов продал свой дом, приехала из чувашского села Аккозино в Крапивинскую волость в 1914 году по Столыпинской реформе. Старший сын Пётр учился в Кемерово, мечтал стать художником. После окончания школы юноша поступил в Среднюю художественную школу при институте им. И. Е. Репина в Ленинграде. Обучался на живописном факультете того же института. Талантливому выпускнику института присвоили квалификацию художника живописи.
Свою дипломную работу, картину «Песня», Пётр Гаврилович посвятил жизни простой чувашской семьи.
Тридцать лет известный художник вёл преподавательскую работу на кафедре рисунка в родном институте.
Главной темой его творчества стали природа и люди Чувашии, с которыми он и его семья жили сначала в Чувашии, а после переезда в Сибирь на Бартеновке. Искусствоведы называют его художником-психологом, художником-драматургом, художником-философом: «Кипарисов очень логично завершил свой путь в искусстве, отмеченный преданностью чувашской теме и пронизанный высокой гражданственностью творчества».
П. Г. Кипарисов скончался 31 декабря 1987 года в Ленинграде на 60-м году жизни.
Сейчас его произведения находятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.
Брат Петра Гавриловича, Алексей, тоже стал художником. Долгие годы трудился на Кемеровском телевидении. Дружил с жителями Бартеновки, Крапивино. Часто бывал у них в гостях, гостеприимно встречал земляков у себя дома. С особенным нетерпением ждал дружную семью Колумбов.
Этот материал мне удалось собрать благодаря внуку Христофора Колумба Александру Христофоровичу и бывшей старосты краеведческого кружка под руководством Н. Д. Конева Людмилы Яковлевны Бояриновой. Огромное спасибо им за память о далеком прошлом, об истории нашего края!
Наталья Артюхова










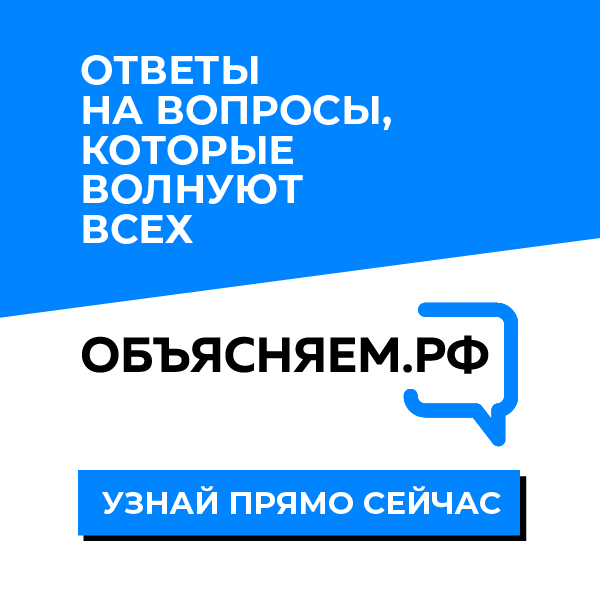

Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.
Запрещены проявления любой грубости, личные оскорбления, использование нецензурной брани. Комментарии нарушающие правила пользования сайтом будут удалены, а пользователи заблокированы.