Чем нас меньше в строю, тем обширнее сектор обстрела

Это сказал автор многочисленных стихов и очерков о войне Владимир Петрович Романчин в ту пору, когда и он, и фронтовики, его погодки, были ещё живы, но уже редела колонна ветеранов. На третьей странице поэтического сборника, выпущенного к 55-летию Великой Победы в 2000-м году, автор написал: «Благодарю городскую Ленинск-Кузнецкую и Крапивинскую районную администрации за содействие в издании книги». С тех пор прошло 30 лет, военное и послевоенное творчество орденоносца Романчина не потеряло значимости, а позиция Крапивинского муниципального округа упрочилась незыблемой данью светлой и благодарной памяти к участникам Великой Отечественной войны.
Журавли пролетели
Мы замолкаем, глядя в небеса, когда летят журавли… От того, что щемящая грусть об ушедших людях, возвращает нас в воспоминания: какими они были тогда, когда жили среди нас, не надевая своих орденов? Зачастую Владимир Петрович в редакцию нашей газеты приходил пешком. Жил он в Банново, наедине с карандашом, ручкой и бумагой. В зимние ли ночи, в летние, не спалось ему, а вдохновенно писалось. Так он сам признавался, чуть свет, появляясь у входа в редакцию. Торопился поделиться новыми стихами или рассказами. Практически все они были в теме прожитых ситуаций, забыть о которых нельзя. А можно и нужно рассказать всем. Сердцевина их — война.
Мы тогда печатали газету в Ленинск-Кузнецкой типографии, там же выходили и тиражи его небольших сборников. Оплату за печать он производил из личных средств. Автор любил предварять поэтические страницы разговором с читателями, доверяя им свои откровения:
— Если ты сибиряк, то эта книга о твоих старших родственниках, грудью заслонивших Родину от немецко-фашистских захватчиков, — говорил Владимир Петрович, — я знал многих, кто шёл рядом. И если твои родственники воевали в снегах под городом Белый, что в Калининской области, освобождали Великие Луки, мокли в болотах под Локней, штурмовали Гнездиловские высоты на Спас-Деменском направлении, участвовали в боях под Оршем и Новоржевом, изгоняли фашистов из Советской Прибалтики, то эта книга — о них и она для тебя. Вот, почитай мою балладу и поверишь мне, что я прав:
Порой в бессонной маяте
Забытый миг пробудит память
И в полный рост, вдруг, встанут те,
Которым в вечности не кануть.
В чеканной поступи легки, идут,
Расправив плечи шире,
Мои годки и земляки,
И цвет, и молодость Сибири.
Не на парад, а в бой идут,
В дыму скрываясь, строй за строем…
Потом историки сочтут:
Из ста вернутся только трое!
На разных подступах к Победе
И потому, что он, Романчин, был в тройке из одной только сотни бойцов, выживших и вернувшихся домой с фронта, потому он и писал, писал, писал стихи и рассказы о себе, о жизни, о войне. Поэт. Член союза Писателей Кузбасса, лауреат литературных премий, член редколлегии Крапивинской районной газеты «Тайдон» (прим. предыдущее название газеты), руководитель литературно-поэтической гостиной, автор более тысячи произведений, он, приравнявший к штыку — перо, поставил цель увековечить память о своём поколении.
Фронтовик. Наводчик 76-миллиметрового орудия 22-й Сибирской добровольческой дивизии. Участвовал в освобождении Калининградской, Великолукской, Смоленской областей, Республик Советской Прибалтики. От Подмосковья (Ржево-Вяземская операция) с Калининским, а затем — со вторым Прибалтийским фронтом дошёл до Рижского взморья, завоевал две медали «За отвагу» и орден «Красной звезды». Писать стихи и рассказы Владимир Петрович начал ещё на фронте, на разных подступах к Победе.
В июне 1942 года Западная Сибирь всей мощью поднялась на защиту Родины. Всюду формировались Сибирские добровольческие соединения. Алтай, Омская область и Красноярский край создали по бригаде, а Новосибирская область — дивизию. Родом Владимир Петрович из Кочковского района Новосибирской области. До войны успел закончить 8 классов и школу ФЗО угольщиков в городе Артёме за Владивостоком. Ещё не было и 17-ти лет, как стал шахтёром. Но поработать не пришлось. В составе Сибирской добровольческой дивизии ушёл на фронт. Богатый людскими и материальными ресурсами промышленный Кузбасс создал для войны два стрелковых полка, обеспечив их не только добровольцами, но и одеждой, обувью, вооружением. Один полк назывался Кемеровским. Почти три года потери дивизии восполнялись в основном сибиряками, за это время через неё прошло около 40 тысяч человек... Представить себе, сколько солдатских детей в Сибири остались сиротами, жён — вдовами, матерей и отцов — без опоры в старости, невест — без женихов! Немало пролито горьких слёз.
Нет другого воинского соединения, которое для Сибири по кровному родству ближе, чем первая Сталинская, потом — 150-я стрелковая, потом — 22-я Гвардейская Рижская дивизия сибиряков-добровольцев. Цвет и молодость Сибири ушли тогда в эту дивизию. Владимир Петрович Романчин с этой дивизией прошёл весь боевой путь. Тысячи могил у него за спиной. И тысячи слов, изложенных в стихи и повести.
Из рассказа Романчина
7 октября 1944 года у хутора Бумбери в Латвии завершился короткий жизненный путь санинструктора 62-го стрелкового полка 22-й Гвардейской Сибирской добровольческой дивизии гвардии сержанта Ольги Жилиной. Закончился героическим поступком. Да и весь её двухгодичный фронтовой стаж был сплошным незаурядным подвигом. Грудь девушки к тому времени украшали 3 ордена и медаль. Орден славы 3 –й степени, орден Красной Звезды, орден Боевого Красного Знамени — такими красными вехами был означен её боевой путь. Так где же, та Божья искра, изначально подвигнувшая Олю к совершению неординарных поступков? О них и написал Владимир Романчин рассказ «Крещение на ненависть», повествуя в нём, что именно его батарея чаще всего поддерживала огнём тот батальон, ту роту, в которой она воевала. Часто вспоминали с однополчанами санинструктора Ольгу Жилину.
— В октябре 1984 года нас, активистов ветеранского движения, свозили к местам, где огнём полыхала наша юность, — вспоминал в марте 1999-го года Владимир Романчин, — нас подвезли к воинскому захоронению у селения Саласпилс (Советская Латвия).Среди фамилий захороненных увидел фамилию командира нашего дивизиона, майора Шамару, а также Ольги Жилиной. Вот где наши пути пересеклись последний раз…
В окопах, землянках, в палатках ли рваных, парням и девчатам жестокой войной, солдатское лихо делилось равно, но ей, санинструктору, потрудней выпадало, конечно, оно. Не в платье цветастом, не в лёгкой юбчонке, а в брюках, в фуфайке, в больших кирзачах, каких вы дорог не топтали, девчонки, нелёгкую ношу неся на плечах… Ещё до санроты, ещё до санбата, под шквальным огнём на виду у врагов, кто первым с земли поднимала солдата? Кто первой до раны касалась его?
Не жалел фронтовик нежных и правдивых строк для однополчанок — санинструкторов, не ставших пред силой врага на колени. И было тем девчатам по 20 лет, а то и меньше.
Отваге храбрых поём мы песни
Где синью гор Кузнецкий Алатау
Глядится в Томь, в стремительный Тайдон,
В просторах нив, в березняках кудрявых
Раздольно лёг Крапивинский район!
А жизнь стучит всё посохом дорожным,
Года бегут с увала на увал,
И свой причал, последний и надёжный,
На склоне лет я здесь обосновал…
В первый раз эту песню, положенную на стихи Владимира Романчина, спели в Банновском сельском клубе, 30 лет назад, в 1995 году. Селянам по сердцу пришлась не только эта простая песня, но и сам автор, горожанин, избравший именно их село для жизни и творческой работы. После войны фронтовик закончил ускоренный выпуск горного техникума и спустился в шахту. Шахтам «Журинка-3» и «Журинка-4», отдал более 30 лет жизни. Работал слесарем, горным мастером, помощником начальника участка, бригадиром автоматизаторов.
Не парадокс особенной породы —
Такой уж жизнь вильнула колеёй:
Я жил мечтой о солнечных высотах,
А проработал в шахте, под землёй…
И я горжусь шахтёрскою судьбою
На склоне лет, поверьте, неспроста:
Вершины, покорённые в забоях,
И есть моя большая высота.
Так, отливая стихотворные пласты, славил шахтёрский труд своих товарищей, наш поэт, ставший своим человеком в районе после того, как три раза выходил на пенсию.
— Только выйду, — вспоминал Романчин, — глядь, пенсионный закон сменился, пенсия стала выше. Иду зарабатывать её. И так — 15 лет! Но и когда окончательно ушёл из шахты, без дела не сидел. Капитально два дома реставрировал своим семейным в городе и два дома построил заново в деревне — себе и дочери. Я был на этих строительствах и главным архитектором проектов, главным прорабом, главным плотником, столяром, печником и стекольщиком. И писал! О, с каким вдохновением выбирал час-другой, чтобы остаться наедине с тетрадкой и ручкой!
Если б гармошка умела всё говорить…
Он ведь не только сочинял стихи, но и пел их! Брал свою гармонь и говорил ей, говорил, и она отвечала звуками, что шли из… памяти! Те первые километры военных дорог и напомнила ему трёхрядка. Осенью 1942 года дожди шли бесконечно. Паренька из Сибири, Володю, назначили в полку повозочным: поскольку солдат Романчин был из села, то к лошади его и приставили — возить снаряды, продукты, фураж. Напитанные водой торфяники под городом Белым, близ Калинина, весьма затрудняли продвижение. Сапёры настелили гать. Но что осталось от неё после тысячи пар ног, колёс, гусениц?! Как ни старался, но отстал молодой солдат Романчин от своих. К ночи его повозка и вовсе застряла. Вот тогда-то паренёк сполна вкусил, что такое солдатское счастье. Наутро, помогая себе, вытянул двуколку из хляби. Погнал к своим. День начался успешно, кони весело трусили. Романчина разморило. Чтобы не заснуть, горланил стихи русских поэтов. Вдруг, показались вражеские самолёты.
— Они словно случайно вывалились из облаков, — потом опишет ту ситуацию Владимир Романчин, — то, что происходило, было невероятно! Остолбенев, я смотрел, как поднимаются вверх, к синеве неба, комья земли, брёвна. Я ещё не понимал, что в эту бомбёжку мог быть убитым. Страх подступил, когда в разрытом воронками огороде увидел распластанную на земле женщину, а рядом — толпу стариков, детей.
Вот этот стон и плач, спустя десятилетия, и напела ему гармошка, когда он рассказывал ей о былом. В первых ржевско-вяземских боях дивизия сильно пострадала, а батарея Романчина полностью погибла. При формировании новой батареи поставили Владимира наводчиком. Батарея (4 пушки) около четырёх часов сдерживала напор семи танков и около 300 автоматчиков. Она погибла вся, а у немцев осталось после боя 3 танка и человек 40. Эти танки их в деревне и добивали, пока не подошла подмога. Вот тогда и получил Романчин свою первую медаль «За отвагу». Проявил он и ещё героизм, спасая конную упряжку.
О боях, пожарищах, о друзьях, товарищах
Он не мог не писать о них, своих однополчанах, об их подвигах. Впрочем, никто тогда и не считал ратный труд на фронте подвигом. Шла Отечественная война. И за своё Отечество они и устремлялись в бой. Сначала Владимир всё в себе пережил, а затем изложил на бумаге:
Когда над Отчизной сгущаются тучи
И смертный повеет с границ суховей
В бессонных селениях солдатские матери
В поход собирают своих сыновей…
Стихи и поэмы разных лет, опубликованные в книге «О моём поколении» в 2003 году, доступны к прочтению и сейчас. В каждой библиотеке Крапивинского муниципального округа есть полочки с его книгами разных лет. Меня волнуют такие разделы творчества Владимира Петровича, как «Души не заживленный шрам», «О себе, о жизни, о судьбе», «Багровый дым», «Командировка в Юность, в 42-й». Незадолго до его ухода из жизни, он посетил редакцию. Заканчивался 2005-й год. Заканчивалось наше общение с ним. Я это видела и чувствовала, а потому спросила:
— Вам есть, кому оставить своё поэтическое наследие?
Владимир Петрович ответил так, как не смог бы никто другой:
— Вам в наследство оставляю звонких строк страницы!
Уже тогда я поняла, он имел в виду не лично меня, а моё поколение, нашу задачу осмыслить опыт и содержание книг, написанных фронтовиком:
Тяжёл мой стих, и не для сытых
Перелопачиваю горы обиходных фраз.
Для обнищавших духом, для голодных,
И чтоб пробраться к их сердцам холодным
Я шлю привет солдатский именно для вас…
И таких строк — программных, призывных, приветливых, добрых в творчестве Владимира Романчина бесконечное множество. Предстоящий Победный май даст несколько выходных дней. Пусть же они станут ещё светлее и радостнее от общения с Владимиром Романчиным. Да, оно не в прямом эфире, и не глаза — в глаза, но душой — к душе, но сердцем — к сердцу, но с благодарностью за мир.
Ираида Родина, из личных воспоминаний







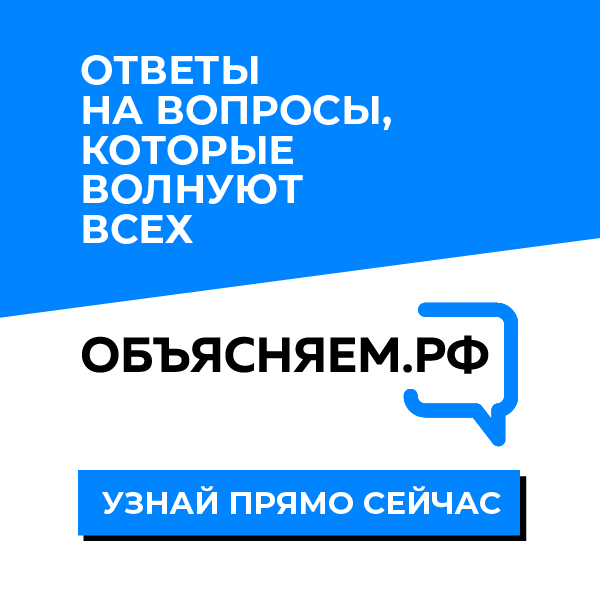

Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.
Запрещены проявления любой грубости, личные оскорбления, использование нецензурной брани. Комментарии нарушающие правила пользования сайтом будут удалены, а пользователи заблокированы.