Они уходили в небеса

Стремительно летит время. Безвозвратно уходят в небытие наши родители, в пекле Великой Отечественной войны выковавшие для нас, их потомков, Победу. Их героизм в войне обрастает мифами и легендами, потому что неохотно они вспоминали те страшные дни. Вероятно, не хотели травмировать нашу детскую психику, а может и сами боялись оглянуться назад, заново пережить фронтовые будни.
Мой отец, Филипп Дмитриевич Пономарёв, родился в деревушке Козловка Новосибирской области. Семья Пономарёвых не шиковала, но и не нищенствовала.
В семье с мальства работали все, дети наравне со взрослыми. Когда выдавался голодный год, всё было направлено на уход за животными. Глава семьи, дед Дмитрий, говаривал: «Лучше одному из детей погибнуть. Деток мы ещё нарожаем, а корова сдохнет — все помрём!» Никто не спорил с ним: такова была житейская крестьянская мудрость. Но, слава Богу, благодаря общему трудолюбию, все выжили.
После окончания начальной школы в родной деревне Филипп хотел продолжить учёбу. Родители одобрили его желание. На образование сына не поскупились, купили одежду, обувь, позже в Татарск ему посылали продукты и немного денег.
По окончанию школы отец работал в родном колхозе. В документах партактива области хранится рекомендация, написанная председателем сельсовета: «…Знаю Филиппа Дмитриевича как активного комсомольца…»
До войны отец поступил в Канскую авиационную школу. Через год там же встретил новость о начале Великой Отечественной войны.
Летом 22 июня 1941 года курсанты первого курса находились на стрельбищах летних военно-полевых лагерей на реке Кан в Красноярском крае.
В половине двенадцатого горнист проиграл сигнал сбора. Через несколько минут курсанты уже стояли в строю на главной линейке. Из выступления Молотова авиашкола узнала, что началась война.
В 1942 году с авиастроением в стране было трудно: до войны большинство заводов находились в европейской части Советского Союза, а эвакуированные на Урал и в Сибирь ещё не набрали мощности. Истребителей катастрофически не хватало. Недоучившихся курсантов школы из Канска перевели в пехотное училище Новосибирска, откуда, проучившись по ускоренной программе, молодые офицеры ушли на фронт командирами взводов.
Отец рассказывал, как он учился с завязанными глазами разбирать и собирать станковый пулемет и как эти навыки пригодились ему на фронте, когда он командовал пулемётным взводом в составе 153-й бронетанковой бригады.
В апреле сорок третьего Филипп Дмитриевич был направлен на Западный фронт помощником командира взвода 787-го стрелкового полка 222-й стрелковой дивизии 33-й армии.
Полк вёл тяжелые изматывающие бои. Участники Ржевско-Вяземской наступательной операции преследовали противника до района северо-восточнее Ельни. Полгода наши бойцы вели частные бои, не входившие в состав стратегических, но имевшие большое значение для подготовки наступления наших войск.
14 ноября в свой официальный день рождения отец получил новое назначение — командиром взвода 336 отдельной штрафной роты.
Вспоминая те дни, папа рассказывал, как он, молодой двадцатидвухлетний лейтенант, впервые «принял» своих штрафников: «Вышли из вагона. Некоторые — непонятно в чём. Даже в исподнем. Куда дели форму? При формировании взводов она была у всех. Может в карты проиграли? Не знаю. Поговорил с ними. Через какое-то время форма нашлась. Прибыли на место боя. Приказываю строить землянки, а в ответ: «Не умеем». Мы с тремя солдатами построили землянку, в ней сделали даже что-то вроде печки. В укрытии потеплело, согрелись. Один боец заглянул, другой. Стали подтягиваться, спрашивать, как построить. Постепенно все обосновались, как люди. Вот так и жили на фронте».
Отец подал заявление в партию на фронте зимой сорок третьего, где его приняли кандидатом.
Сейчас много спорят о штрафниках, этих военных подразделениях. О них талантливо снят фильм «Штрафбат», где всё проникнуто фальшью. Тем опаснее эта ложь. Ведь штрафников осталось совсем мало, а их честные и искренние голоса тонут в потоках клеветы.
В составе 33-й армии находилось девять отдельных штрафных рот. Попросту «шура», так фронтовики прозвали роты штрафников. В одной из них с 14 ноября 1943 по 23 февраля 1944 в качестве командира взвода воевал Филипп Дмитриевич Пономарёв.
Использовали ОШР на самых трудных участках фронтов. Они занимали господствующие высоты для улучшения позиций обороны, контратаковали противника, вели разведку боем, прорывали вражескую оборону. Бои шли изматывающие. Роты штрафников хватало на два-три боя. Были ли они смертниками? Выжить на фронте всегда считалось счастьем. Составы ОШР менялись часто — за три-пять месяцев дважды. На их формирование уходило время, которое не засчитывалось в срок штрафникам, поэтому в бой сразу вводили только что созданные роты, в которых фронтовики не задерживались более трех месяцев, поэтому стаж службы в таких подразделениях шёл как «один к шести». Лейтенант Пономарёв выжил после ста одного дня боёв!
Отец рассказывал, что состав «шуры» комплектовался большей частью из осужденных военным трибуналом, а не из «уголовников». Если кто-то выживал свой срок, вина считалась искупленной кровью.
«Командирами штрафных подразделений ставили только проверенных во всех отношениях кадровых офицеров, никаких штрафников. Особых дисциплинарных и иных санкций к бойцам не применяли, кроме уставных. В бой шли по приказу, без угроз и насилия, без пресловутых заградотрядов. Лично я их нигде не видел, хотя, говорят, что были. Часто я даже забывал, что командую не совсем
обычным подразделением.
И во взводе, и в роте была дисциплина, порядок между офицерами и солдатами-штрафниками. Обращались ко мне: «Товарищ лейтенант!» А не «гражданин».
Развернувшиеся кровопролитные бои поздней осени сорок третьего сразу приняли крайне ожесточённый характер. Выпавший снег прикрывал болотистые места, для танков они оказались своеобразной ловушкой. На поле сражения образовывались кладбища машин, артиллерийских орудий, трупов бойцов. Смертельная схватка не принесла успеха. По лесам немцы обошли танковые бригады 33-ей армии. Нашим, с большим трудом,удалось вырваться из окружения.
Внезапно наступила оттепель. Окрашенные кровью потоки тающего снега с пологих берегов стекали в реку. Ноги вязли в грязи, а вытащенные из тающего месива сапоги образовывали ямы, которые тут же наполнялись красной влагой. Настолько земля насытилась кровью!
За те бои, об этом я узнала через много лет после смерти отца, лейтенант Пономарев был награждён боевым орденом «Красной звезды».
На сайте «Подвиг народа» мы нашли скупые строки, за которыми стоит один из великих подвигов великого народа.
«Получив приказ на наступление 11 января 1944 года, овладев северной окраиной Мяклово с группой бойцов 14 человек при поддержке двух танков, товарищ Пономарёв, оценив обстановку, принял решение действовать группами по два-три человека, поставив перед каждым задачу. По сигналу штурмом овладели северной окраиной деревни Мяклово, уничтожив дзот и огневую точку противников. В короткой неравной схватке огнём из автомата лично уничтожил восемь немецких захватчиков. Огнём способствовал захвату «языка». Четыре раза отбивал контратаки противника.
В ночь с 13 на 14 января 1944 года противник пытался разведать наше расположение. С этой целью группа противника численностью девять человек пробиралась правее Пономарёва, находящегося в боевом охранении, которая была им замечена. Подпустив их на близкое расстояние, встретил огнём из автомата и гранатами. Вследствие выдержки группа разведчиков была уничтожена полностью. План противника — разведать наше расположение — не удался.
22 февраля 1944 года началась частная операция на Оршанском направлении, в которой участвовал и мой отец.
Это был его последний бой…
После взрыва путь возвращения бойца в собственное тело, родную оболочку, к которой душа успела привыкнуть за многие годы, был нелегок. Сознание постепенно возвращалось, но лейтенант больше не слышал звуков сражения. Из левого уха за воротник бежала тонкая струйка крови. От неё мокла и липла к спине гимнастёрка. Страшная боль колоколом звенела в голове раненого. Уже в прифронтовом госпитале ему объяснили, что от близко разорвавшегося снаряда лопнула барабанная перепонка.
Кто-то крепко обхватил бойца и потащил все дальше и дальше от опасного места…
Окончательно душа возвратилась в «родной дом», когда отец находился уже в лазарете. Он лежал на железной, насквозь пропахшей хлоркой, кровати в тепле и чистоте без имени и фамилии, не осознавая себя личностью. Простой смертный, чудом оставшийся в живых.
Празднуя сорокалетие Победы, незадолго до ухода в никуда он скажет: «Там в палате я был не человеком, а НЛО: неопознанным лежащим объектом»…
Я думаю, что Филиппу Пономарёву и его товарищам было нелегко заново учиться жить в мире. Отгремели орудия, но долгое время бывшие фронтовики всё ещё находились где-то там, на полях сражений во власти бога войны, от которого они мучительно медленно возвращались к цветущим веснам.
Через четыре месяца лечения и реабилитации после контузии Филипп Дмитриевич Пономарёв был направлен на работу 1 сентября 1944 года в новосибирский лагерь военнопленных №199, который просуществовал четыре года. Здесь отец работал в течение почти трёх месяцев. Их задача была выявить среди бывших военных ярых фашистов, эсэсовцев.
14.11.1945 года в свой официальный день рождения отец написал заявление в первичную парторганизацию при Управлении проверочно-фильтрационного лагеря №0314 с просьбой принять его в члены ВКП(б). Странно, но все знаменательные события в жизни отца происходили в его официальный день рождения!
В сентябре 1948 года Пономарёв окончательно поменял место работы, получив назначение в Кемеровское управление внутренних дел, старшим уполномоченным.
В 1952 году отца вызвали в военкомат для вручения ему ордена «Красной звезды» № 3137782. Эту боевую награду он должен был получить ещё на Западном фронте под Витебском в 1944 году.
Через восемь лет «награда нашла своего героя»…
Отец ушёл в отставку через тридцать девять лет службы в органах.
О специфике его работе я не знала ничего. И только на его похоронах кто-то из его товарищей проговорился, что Филипп Дмитриевич был шифровальщиком спецотдела.
Я не могла понять, почему он никогда не надевал орден «Красной звезды», орден «Отечественной войны», свои заслуженно полученные награды. Возможно, потому что он всегда помнил своих боевых товарищей-штрафников, с которыми он прошёл сто дней войны. Они так и остались лежать на полях у Лучесы, не похороненные по старинному русскому обычаю в гробах-домовинах.
Два года тому назад я нашла ребят из Витебска. Они и сейчас занимаются поиском неизвестных солдат в тех местах, где воевал отец. Один из них Алексей Клевцов прислал мне фото, сделанные на месте раскопок. Фотографии бесконечно дорогие для меня.
Наталья Филипповна Артюхова







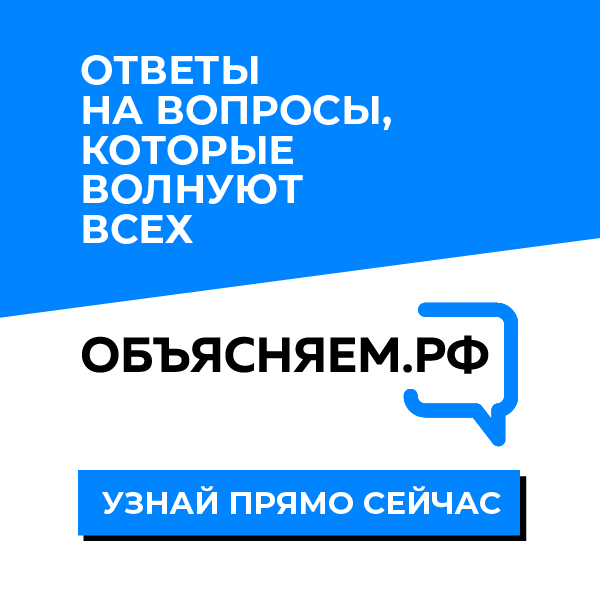

Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.
Запрещены проявления любой грубости, личные оскорбления, использование нецензурной брани. Комментарии нарушающие правила пользования сайтом будут удалены, а пользователи заблокированы.