С какой стороны ни смотри, живи, Клавдия, живи!

Выйдет бабушка за калитку своего дома и смотрит вдаль на деревню: там — улица Заречная, там — Мира и Новая, а там, где-то на той стороне, прошло её детство и юность, всё самое дорогое, о чём помнится и любым днём и ночью длинной, когда не спится… Ведь когда-то же она была не бабушкой 93-летней, как сейчас, а средней дочкой Якова и Татьяны Ивашовых. Яков, цыганского роду-племени, всем своим деткам — Лене, Алексею, Клавдии, Галине, Яше дал свои чёрные глаза, красивое обличье и способности к труду вложил в них, хотя многого не увидел и не узнал.
— Ушёл папа рано, по малолетству я почти не запомнила его, — рассказывает Клавдия Яковлевна в час, когда мы сидим с ней в её жарком доме номер 8 на улице Октябрьской в селе Долгополово, — аппендицит случился вдруг с ним в 1938 году, умер враз и не дождался когда родится его последний сыночек. А он через месяц и появился на свет. Назвали его Яшей. Мама наша, Татьяна Варфоломеевна Ивашова, больше замуж и не ходила. «У меня, — говорила она, — сердце не выдержало бы, если кто-то из чужих мужиков на моих ребятишек прикрикивать бы стал». Что и говорить, ватага из нас пятерых шумная была, хлопот маме доставалось. И мы, младшие, за ней повсюду, как хвостики: она в огород и мы за ней, она свиней кормить — мы рядом, она в овчарню — мы туда же. Ночью оставались одни, а мама уходила сторожить на колхозную овчарню. Горевали вместе с ней когда папа умер, когда коровёнка наша пала, когда сердобольные соседи приносили молочка только Гале маленькой и Яше, ещё меньшему… Только-только поднялись чуток, как пришла война…
И Нива, и Орлы, и Знамя — всё называлось красным цветом
Перед войной, в 30-х годах, в той местности, где жили Ивашовы, люди трудились в колхозах «Красная Нива», «Красные Орлы», «Красно Знамя», имени Куйбышева, а в Долгополово была «Парижская коммуна». В ней и работали Яков и Татьяна. Они и не знали, что их смышлёную дочку Клаву время готовило к особому предназначению. То самое время и учителя дали Клаве — Алексея Захаровича.
— Фамилию не помню, а имя его прямо на какой-то полочке в голове зацепилось, — вспоминает сквозь годы Клавдия Яковлевна, — все 4 года, когда он вёл наш класс в Долгополовской школе, больше всего я любила арифметику и Алексей Захарович хвалил меня, пятёрочек не жалел. Вот и не зря наш счетовод колхозный Иван Михайлович Тарапкин меня к себе в помощники взял. Но сначала на поле проверял. А чтобы выйти на поле, нужно рано встать. Побудку делал бригадир: всем пацанам и девчонкам в окошко стучал:
— Подъём! Пора, детвора!
Кому же в поле ещё быть рядом со взрослыми, как не детворе военной поры? Уходили на фронт из Тараданово и Долгополово, Еловки и других ближних деревушек, целыми семьями. Ушли Аленькины, Асеевы, Вершинины, Жуковы, Звягины, Кленовы, Колмыковы, Лапиковы, Логуновы, Переверзевы, Телковы, Трофимовы, Черданцевы, Шерины — более 200 человек сменили колхозный труд на ратный бой, став фронтовиками. А это значит, что на 200 работников стало меньше в колхозах с «красными» праздничными названиями. Кем их заменить? В письмах с фронта свои спрашивали у своих:
— Как дела в колхозе? Как посеяли? Будет ли что убирать?
Девятилетней Клаве Ивашовой и её подружке — сверстнице Кате Кутаренко бригадир доверял особенно: девчонки росли трудовые, в семьях их приучили делать всё по-честному.
— А мы-то и не думали раньше, что у нас в Долгополово такие длинные и долгие поля! — говорит Клавдия Яковлевна, — как поставит нас бригадир в полосу пшеничную, как наделит каждого их нас, малых, частью поля с растущей полынью в пшеничке, так кажется, что нет этой полосе ни конца, ни края…
И всё-таки был и конец, и край, и кучи с наваленной в огромные горы травой-полынью. Ходила и считала Клава в промежутках поля этот полынный сбор. Но и убрать его нужно было обязательно. Причём, чем раньше — тем лучше.
— Чтоб не дозрела полынь в кучах, чтоб колосья хлеба не пропитались запахом, чтоб зёрна и хлеб не были горькими, — поясняет мне Клавдия Яковлевна.
Кроме пшеницы сеяли в колхозах и в «Парижской коммуне» овёс, ячмень, рожь, чтоб было, что на трудодни получать и кушать. Свёклу сажали и пропалывали и дождя на неё ждали, и покос не сокращали, сено ставили — скотину кормить колхозную никто не прекращал. И всюду — в работниках женщины — солдатки, многие ставшие уже вдовами, да ребятишки, рано повзрослевшие. Смотрю я трудовую книжку Клавдии и никаких в ней отметок нет про её труд в годы войны, а Клавдия тут же показывает мне все удостоверения, выданные позже и подтверждающие её труд в тылу: честный и многолетний.
— Тогда мы работали за «палочки» — трудодни, — подтверждает она, — учёт им вели строгий, потому что за каждый трудодень начислялись килограммы зерна. Сколько трудодней, столько и зерна на работника выдавали по решению правления колхоза. Мы, дети, тоже имели свою норму и очень ждали, когда вырастет пшеница, когда уберут её с поля, когда нам зерно в мешки насыплют, а мы его в муку перемелем. И что же было однажды? Ещё в спеющем зерне, которое мы, проголодавшиеся, взяли в рот, почувствовали горечь. Полынь своё дело сделала! И хлеб испечённый тоже был с горечью. Но ели! И съели, помня о том, как вовремя нужно пропалывать посев от сорняков.
Слушаю я свою собеседницу, уважаемую труженицу тыла и верю и не верю про полынь. А она чуть ли не божится:
— Не совру!
Для своего лично понятия, читаю в агрономической энциклопедии:
«При обмолоте зерна, засорённого полынью, волоски в виде мелкой пыли оседают на поверхности зерна. Таким образом, запах и вкус полыни передаются зерну, а с увеличением влажности зерна увеличивается степень его горечи, и при обычной схеме помола из горько-полынного зерна получается мука с горьким вкусом, который сохраняется при выпечке хлеба». Так что не для красного словца сказано: военный хлеб горек, но как же сладок! Как же не сказать спасибо малолетним работникам полей, убиравшим сорную траву, сохранявшим хлеб съедобным и вкусным.
Алексей, сын Якова и брат Клавдии
Самый старший из многодетной долгополовской семьи Ивашовых Алексей ушёл из дома по призыву в 1942 году. Мать Татьяна и четверо младших — Лена, Клавдия, Галя и Яша дождались его возвращения только в 1947 году. Вернувшись, увидел, как выросли они, как мать сохранила всех, узнал, как жили и работали они в военные годы. Постепенно, не сразу, но узнали в семье, как и где воевал Алексей. Служил десантником, форсировал Днепр, освобождал Белоруссию, Польшу, дошёл до Берлина. Трижды был ранен.
— Я сильно была рада, что брат не только вернулся домой, но и никуда из деревни не уехал, разве только что на учёбу, — радостно светятся глаза Клавдии Яковлевны, — не все, кто уходил из Тараданово и Долгополово, вернулись живыми, 176 человек погибли. Я нашу районную газету всегда читала от корки и до корки, запоминаю про всех, кого знаю, а кого не знаю, как бы знакомлюсь с ними. Вот, смотри, я фотографии все храню и документы.
Смотрю и вижу: Ивашов Алексей Яковлевич, гвардии сержант, командир отделения, участник Свирско-Петрозаводской наступательной операции, награждён Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью Жукова, медалью «За победу над Германией», знаком «Ветеран Карельского фронта». Он счёл долгом колхозу работать скотником в животноводстве, трактористом в полеводстве, бригадиром и ветврачом уже в совхозе «Тарадановский». Уж он-то, 1924 года рождения, первенец в семье Ивашовых, точно помнил отца своего и науку крестьянского труда, переданную ему Яковом старшим. Её же, эту безхитростную науку, плюс уроки арифметики от школьного учителя, применяла на практике и Клавдия, работая в начале 50-х годов учётчиком тракторно-полеводческой бригады в Долгополово.
В ситец одета — невесты примета
Откуда ни возьмись, появился в деревне парень Василий. Однажды, когда в клубе «крутили» хорошее кино и свободного места в зале не было, он уступил своё место Клавдии. Потом домой проводил её из клуба. Потом рассказал про себя: приехал в их края с геологоразведкой из Герасимовки, что в Сумской области, работает сменным мастером бурового на буровой установке, а в их деревне «стоит» на квартире у одинокой бабушки.
— Подружили мы три дня, — улыбается Клавдия, — меня Вася стал ласково называть Клавдёк, а затем после смены на буровой вышке, привёз мне отрез ситца на платье.
— Сшей на свадьбу, — сказал, — походка у тебя хорошая и фигура, будешь ты моей, Якимченко Клавдией.
55 лет прожили с ним. Ни разу даже шутя щелчком не тронул меня, всё одно твердил: Клавдёк, Клавдёк! Статный. Степенный. Спокойный. Коммунист. Его партийный билет я храню уважительно. В совхоз перешёл работать трактористом, позже бригадиром на дойном гурте в животноводстве, фуражиром, управляющим фермой. Начальником моим стал, я ведь много лет работала на ферме в колхозе «Кузбасс» — дояркой, телятницей, бригадиром на группе молодняка крупного рогатого скота, да ещё и ветсанитаром, осеменатором. Много лет работала продавцом в сельмаге, но привычное дело на ферме опять
переманило меня туда.
— 20 лет назад ушёл на погост мой Вася, — откровенничает Клавдия Яковлевна, — а перед этим сказал:
— Ты, Клавдёк, одна не живи. Будет трудно, выходи замуж за хорошего человека.
А я его, своего мужа, ослушалась. Были ухажёры — один городской и ещё один — наш, сельский, предлагали мне замужество. А я на дом свой посмотрю, да и говорю сама себе: это ж наш с Васей дом, это ж здесь наши дети росли, кто же нужен тут чужой?
Раз — картошка, два — картошка, греется у печки кошка…
Катя и Таня, дочки Клавдии Яковлевны, живут в городах Междуреченске и Ленинске-Кузнецком. Зовут:
— Поедем, мам, у нас поживешь!
— Нет и нет! — отвечает, — дом большой и тёплый, огород свой и ухоженный, кот с отмороженными ушами мне песни поёт, Пальма (собака) во дворе бегает, охраняет и ластится ко мне! Вы, дочери мои милые, сами приезжайте на картошку — закопать её в землю, а затем через три месяца откопать и в погреб опустить поможете, а я и рада буду!
А вот социальные работники труженицы тыла Клавдии Якимченко — Катя Симикаша и Лена Черных сетуют на свою подопечную:
— Ничего-то она нам и делать не даёт! Всё сама, да сама! И это сделаю сама, — говорит, — и тут сама справлюсь! Хоть позволяет зимой угля в дом занести и золу вынести, а летом в огороде позаниматься.
Живёт Клавдия в труде ей посильном, как бы подтверждая каждым днём, что медаль «За труд во имя Победы», врученная в 2022 году, не напрасно ей дана. Каждый прожитый день сегодня — победа над годами, называемыми преклонными.
— Да и не преклонюсь я перед ними, — шутит, провожая меня, глядя в открытое окошко.
Платки носит яркие, не старушечьи. Из него хорошо видна та сторона деревни, где жила раньше девочка Клаша, девушка Клава, и эта сторона деревни, назвавшая старожилку почётно: наш ветеран. Стойкий. Лучший. Не согбенный. Слышать стала хуже. А взгляд — ясный. Каждую заметочку в районке шариковой ручкой «крыжит» — эту прочитала, эту тоже, а эту — ещё раз перечитаю, понравилась.
Ираида Родина







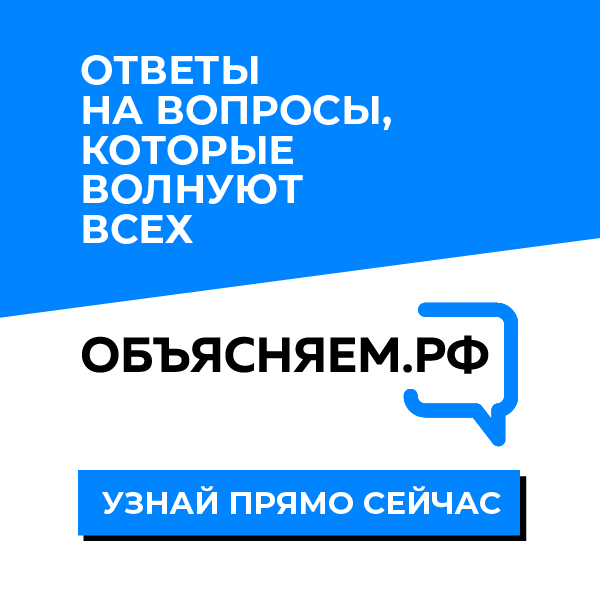

Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.
Запрещены проявления любой грубости, личные оскорбления, использование нецензурной брани. Комментарии нарушающие правила пользования сайтом будут удалены, а пользователи заблокированы.